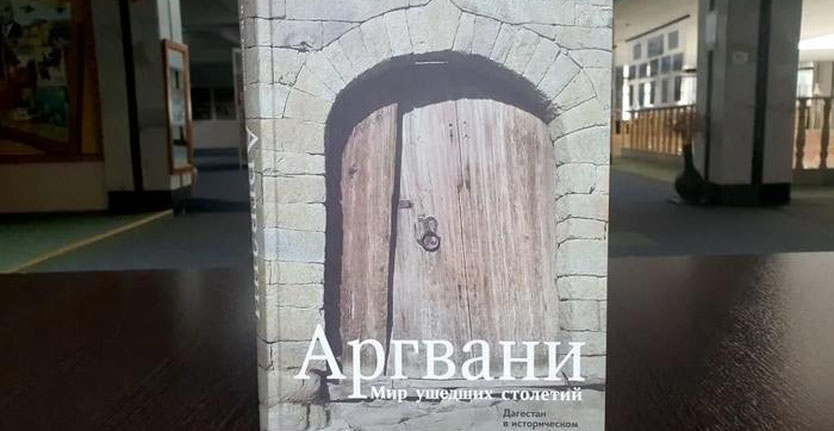
«Аргвани. Мир ушедших столетий»
25.04.2025 01:1617 апреля в Национальной библиотеке РД им. Гамзатова в Махачкале состоялась презентация книги «Аргвани. Мир ушедших столетий» историка Патимат Тахнаевой.
О чем эта книга, рассказывает сам автор произведения.
Если коротко, одним предложением, это взгляд историка на историю дагестанской сельской общины — джамаата Аргвани, рассматриваемую в контексте общедагестанских перемен: от эпохи средневековья до начала массовой коллективизации и других реформ модернизации села новейшего времени, в конечном итоге преобразившей ее в советскую колхозную общину. Настолько сильно преобразившую, что дальнейшая ее история имела крайне отдаленное отношение к «миру ушедших столетий».
Вместе с тем это история Дагестана, отраженная в историческом портрете одного селения.
Книга представляет собой цикл исторических очерков, изложенных в хронологическом порядке.
На мой взгляд, наиболее интересная — и сильная, сторона этого издания (второго, дополненного; первое издание вышло в 2012 г.) заключена в главах, которые охватывают XIX–XX вв. В них не просто подробно освещены периоды Кавказской войны, Гражданской войны, процесса советизации региона и его деисламизации — впервые ключевые, проблемные вопросы истории Дагестана рассматриваются вне идеологического фокуса советской и постсоветской историографии. Кажется, мне удалось это сделать, но судить читателю.
Традиционно в начале излагается история образования селения, привязанная к интереснейшему письменному источнику по средневековой истории Дагестана «Тарих Аргвани», условно датируемому XVII в., но уходящего корнями к XI–XII вв. По «Тарих Аргвани» основатели селения, потомки сеййида Али аш-Шами, обойдя чуть ли не все границы исламского мира и выйдя за его пределы, появляются в Дагестане, в Гумбете (Бакълъулал), образовав здесь первую исламскую общину во главе с эмирами (титул, который, по письменным источникам, носили его правители). В XIV в., на рубеже средневековья и нового времени, наблюдается возвышение Агванинского эмирства, связанное с походами в Дагестан среднеазиатского завоевателя Тимура, «огнем и мечом» утверждавшего в регионе ислам. В 1395 г. его путь проходил через Гумбет — мусульманские правители Аргвани (как и другие дагестанские), по всей видимости, получили тогда от Тимура ярлык на власть в отличие от разоренных его нашествием соседних общин, жители которых еще не стали к этому времени мусульманами. Сильные позиции Аргвани, по письменным арабоязычным и русскоязычным источникам, прослеживаются вплоть до начала XVIII в. (1732 г. датирован русскоязычный документ, в котором впервые упоминается общество Гумбет — союз восемнадцати селений, в их числе и Аргвани). Затем мы переходим к событиям эпохальных XIX–XX вв.
Между главами, в хронологическом порядке, вставлены разделы, посвященные ученым-арабистам Аргвани, страницам их биографий и научному наследию: это известный с XVII в. Али Хаджияв ал-Аргвани ал-Авари, шамилевский наиб и мудир, кади Абакар-дибир (1793–1876), автор уникальной исторической хроники, Шамхал из Аргвани (1846–1905), шейх Гаджи из Аргвани (ум. 1932), Курбанали-хаджи Пушули (ум. 1931), Пахруддин Шамхалов (1869–1932), Абдулатип Шамхалов (1890–1933). Судьбы их уникальны, но у последних троих, живших на переломе эпох, невероятно трагичны — в них наиболее зримо отражается история Дагестана 1920-х–1930-х годов.
Период Кавказской войны, во время которого аргванинцы упорно держали сторону имамов Дагестана, изложен в трех больших главах: «Имам Шамиль: попытки избежать войны (1835–1837 гг.)», «Сражение за Аргвани (май – июнь 1839 г.)», «Аргвани 1840–1859 гг.». Их надо читать — новые источники, изложение событийного ряда, другой взгляд.
Особое место в работе занимает глава «Аргвани во время восстания Дагестана и Чечни в 1877 г.». Она охватывает весь Гумбет и открывает совершенно новые страницы истории практически не изученного повстанческого движения в этом регионе. В нем также приводятся два уникальных источника: письма данухцев из ссылки сыну имама Шамиля и турецкому султану, в которых кроме просьб о помощи излагается ход трагических событий восстания и даны списки высланных жителей двух гумбетовских селений, Артлуха и Дануха, во внутренние губернии России под надзор полиции за участие в восстании.
Огромное внимание уделено событиям первой четверти XX в., 1917–1920-х годов. Они изложены в четырех больших многостраничных главах: «На изломе эпох: 1917–1920 гг.», «От имамата Узун-Хаджи к «шариатской монархии» — Северо-Кавказскому эмирату, 1919–1920 гг.», «Последний этап гражданской войны в Дагестане, 1920–1921 гг.», «Начало новой эры Дагестана: Дагестанская советская автономная республика, январь 1921 г.».
Этим главам предшествует небольшая, но очень важная, выстроенная на материалах одного архивного дела глава, которая отражает существовавшее к тому времени понимание аргванинцев юридического статуса их джамаата, с говорящим названием — цитатой: «Ибо земля принадлежит не Начальнику округа и не Русскому царю, а Аргуанинскому сельскому обществу…, 1915–1917 гг.».
За очень короткий период, 1917–1921 гг., Февральская, Октябрьская революции и Гражданская война, совершившие рывок от имперской России к советской, с неумолимой жестокостью переломных эпох обрушатся и на Дагестанскую область, перевернув прежний мир традиционного Дагестана. Все общественно-политические деятели тех лет, местные реформаторы (джадиды, шейхи, социалисты, исполкомовцы, члены милли-комитета, большевики) апеллировали к исламу, по-разному интерпретируя положения шариата о социальной справедливости, власти и собственности.
Аргвани не оставался в стороне от тех событий: двое его алимов депутатами от Андийского округа входили в парламент Горской республики; его алимы пребывают в близком окружении имама Н. Гоцинского и шейха Узун-хаджи.
В главе «На изломе эпох: 1917–1920 гг.» требуют к себе внимания такие параграфы, как «На пути к политической независимости: республика или имамат (март 1917 г.)», «О несостоявшихся «соединенных штатах» Российской республики (ноябрь 1917 г.)», «III Съезд Дагестанского исполнительного комитета: второе избрание Н. Гоцинского имамом и его первое политическое поражение (Темир-Хан-Шура, январь 1918 г.)», «Советский Дагестан и «советский шариат» (май – ноябрь 1918 г.)», «Коммунизм в чалме» и «большевистские миллионы»: о захвате большевиками власти в Совете обороны (январь – февраль, 1920 г.)».
В силу географического расположения Аргвани оказался втянут в орбиту образованного в 1919 г. Северо-Кавказского эмирата, который за короткий срок — пару месяцев — эволюционировал от имамата Узун-хаджи к «шариатской монархии».
Глава «Последний этап гражданской войны в Дагестане, 1920–1921 гг.» охватывает события всего одного года. Но это самая большая глава в книге, в ней больше восьмидесяти страниц. Последний этап гражданской войны за создание независимого государства в Дагестане войдет в советскую и российскую историографию под названием антисоветского восстания под руководством Н. Гоцинского. Я бы назвала эту главу самой «революционной», и самой важной в книге — она ломает все устоявшиеся за последние сто лет, окаменевшие со времен советской историографии концепции, стереотипы и героические образы. В главе двадцать параграфов.
По официальным утверждениям, предпосылками антисоветского восстания в Дагестане в 1920–1921 гг., точнее, его горючим материалом, являлись «невежество», «отсталость» и «религиозный фанатизм» горцев, которым оказали помощь «закавказские буржуазные правительства при поддержке Антанты» (это утверждение опровергается в параграфе «К вопросу о вооружении повстанцев: мифы и реальность»).
С начала восстания и до последних его дней дагестанские большевики и советское военное командование видели в повстанцах исключительно недалеких «фанатичных», обманутых горцев или «несознательную, религиозно-настроенную часть населения» (две трети Дагестана), а имена и личности руководителей восстания и вовсе терялись за потоком оскорбительных, уничижительных ярлыков («лже-имам», «подлый барановод», «предатель Иуда», «свора мулл и хаджиев», «негодяи», «негодяи-овцеводы», «воры и предатели», «продажные лакеи», «проповедники нагайки», «гнусные шарлатаны» и т.д.).
Для подавления восстания в конце октября 1920 г. в Дагестан были введены регулярные войска, и руководство по подавлению антисоветского мятежа было передано командованию Дагестанской группы войск во главе с начальником 32-й дивизии А.И. Тодорским. Спустя три месяца, в январе 1921 г., в целях усиления борьбы с повстанцами Дагестана и Чечни была создана Терско-Дагестанская группа войск численностью более двадцати тысяч человек. А. Тахо-Годи признавал, что с вводом в Дагестан регулярных войск «восстание вылилось в настоящую войну». Современник событий, известный кумыкский общественный деятель Абусуфьян Акаев (который не относился к сторонникам Н. Гоцинского), незадолго до своего ареста резюмировал о вводе красноармейских войск в Дагестан: «Из России прибыло подкрепление. Русские красные отряды, проникнув в горы, уничтожали там банды… и упрочили окончательно Советскую власть».
Впервые при изложении этого периода истории в текст введены имена его действующих лиц, заслуживающих внимания и уважения, но вычеркнутых из официальной истории как «врагов советской власти» — Кебедмухаммада из Бежта, Ибрагим-хаджи из Кучраба, Саадула-хаджи из Хуты, Мухаммад-хаджи из Балахуни, Дарбиш Мухаммад Хаджи из Нижнее Инхо, Сиражутдин Хаджи из Инхо, Мухаммад-Амин хаджи из Ансалта и др.
Особого внимания в этой главе заслуживают параграфы «Враги и союзники Н. Гоцинского: Врангель, казаки, Горское правительство, Саид Шамиль», «О расхождении взглядов дагестанского мусульманского духовенства на антисоветское повстанческое движение», «Н. Самурский, С. Габиев и «красные шейхи»: Али-хаджи Акушинский, Хасан Кахибский (осень, 1920 г.)», «Карательные действия Красной армии: с. Куппа, с. Хаджал-махи, Гиничутль, с. Сиух (Гумбет)». Завершается глава параграфом «Портрет советской власти в Андийском округе: «Правление средневекового царского диктатора...» (август, 1921 г. – март, 1922 г.)».
Следующая за ней — глава «Съезд мусульманского духовенства Дагестана в Кахибе (1923 г.)». У нее есть и другое название — «Публичная казнь «вождя антисоветского движения» Н. Гоцинского». Нажмуддин Гоцинский будет арестован и расстрелян спустя два года, в 1925 г., но в 1923 г. дагестанские большевики хорошо осознавали, что подавить последнее восстание им удалось с невероятными усилиями только благодаря регулярным войскам.
И хотя будущий арест Н. Гоцинского к тому времени все еще оставался вопросом неопределенной перспективы, партийное руководство республики решило предать его имя и его движение публичной казни.
Для этой цели в с. Кахиб Гунибского округа 20 ноября 1923 г. был созван съезд мусульманского духовенства Дагестана. Он был организован высшим органом советской власти — ДагЦИКом, под контролем ОГПУ, которое четко сформулировало задачу предстоящего мероприятия: «Лишение авторитета виднейших вождей антисоветского движения Гоцинского и Акушинского». Задача была выполнена.
А участники Кахибского съезда, шейхи и алимы, вольно или невольно ставшие сторонниками соглашательства с властью, подписали себе приговор: представители мусульманского духовенства, поддержавшие в годы Гражданской войны большевиков, оказавшие неоценимую роль в установлении советской власти, вскоре после съезда объявленные контрреволюционными, антипартийными и антисоветскими силами, будут подвергнуты политическим гонениям — лишены прав, арестованы, отправлены в лагеря, расстреляны.
Трагична судьба арестованного в 1937 г. органами НКВД шейха Хасана Кахибского — в том же году, в возрасте 85 лет, обвиненный в контрреволюционной деятельности (в том числе, в «связях с Америкой»), он был расстрелян.
В 1920–1921 гг. в Дагестане утверждается Советская власть, но уже к 1929 г. она вызывает у всего его населения недовольство. В частности, по информационным письмам и отчетам Андийского окружного комитета этого периода очевидно, что новая власть не только не располагала к себе, сколько вызывала у местного населения стойкое отторжение «тяжестью налогов», «проведением антирелигиозной пропаганды», «сельхозналогом», «изъятием вакуфов и закятов», «сдачей в крестком закята и вакуфа».
К тому времени новая власть, упрочившись, перешла в открытое наступление на права и свободу мусульман, объявив открытую войну религии, обозначив противника в лице «шейхов», «мулл», «имамов», применяя к ним меры от «ограничительного характера» до репрессивных актов.
К 1930 г. советской властью недоволен весь Дагестан — к концу 1929 г. в одном из обзоров Даг. отделения ОГПУ отмечалось, что во всех дагестанских округах «фиксируется весьма активное выступление кулачества, духовенства и других антисоветских элементов против всевозможных мероприятий партии и советской власти, главным образом, против колхозов, сельскохозяйственных товариществ, госстрахования, передачи вакуфного имущества кресткомам и т. д.». Выражающих недовольство властью причисляли к членам «контрреволюционных группировок», государственным преступникам.
В начале 1930 г. в республике прошла волна массовых арестов по районам. В том же году протестные настроения населения вылились в многочисленные массовые вооруженные восстания по всему Дагестану (в Дидоевском участке Андийского округа, Ахтынском, Касумкентском, Курахском, Рутульском и Табасаранском районах республики). Уже в конце марта 1930 г. начальник дагестанского отделения ОГПУ К. Мамедбеков был вынужден признать, что «массовые выступления, антиколхозные выступления начинают принимать повстанческий характер». Показательно, что в советских документах (и в советской историографии) эти восстания получат название «массовых волнений, спровоцированных и возглавляемых контрреволюционными шариатскими элементами и представителями мусульманского духовенства».
Особое место в работе занимает глава «Аваро-андийское дело «гоциновщиков и кулацко-мулльских банд» 1929 г., написанная по следственным материалам Даг. отдела ОГПУ. Она большая, более пятидесяти страниц. По обвинительному заключению сфабрикованного «Аваро-андийского дела №1350» из 47 осужденных 22 были расстреляны (ст. 58. п. 2. УК РСФСР), остальные получили сроки лишения свободы от 5 до 10 лет концлагерей. В числе расстрелянных и осужденных — пятеро аргванинцев. Впервые опубликованы 40 фотографий осужденных, выявленных в деле. Все они потом будут реабилитированы посмертно.
Возможно, неприятным, но бесспорным фактом для многих станет отчасти провокационная роль в этой истории внука имама Саида Шамиля, который с середины 1920-х годов активизировал свою политическую деятельность — бесславно вернувшись в 1921 г. из Дагестана и Чечни в Турцию.
В той же главе, в параграфах «Ликвидация «Даргинской контрреволюционной организации», декабрь 1928 г. – апрель 1929 г.» и «Следственное дело о лакской контрреволюционной организации «Урватул Вуска»», рассматриваются подобные сфабрикованные дела по даргинской и лакской мусульманской интеллигенции.
Эти дела очень ярко и наглядно демонстрируют историю взаимоотношений советской власти и мусульманского духовенства в первое десятилетие советской власти — как для вытеснения этой влиятельной силы из общественно-политической жизни упрочившаяся власть задействовала все средства и методы идеологического, экономического и административного давления на «противника».
Глава логично завершается параграфом «Антисоветские вооруженные восстания в Дагестане и Чечне в 1930 гг.: Вали Долгаев, шейх Мухаммад Рамазанов (Штульский), Шита Истамулов».
Не могу здесь не процитировать отрывок из письма шейха Штульского, адресованного начальнику Даг. отделения ОГПУ, который предлагал шейху сдаться. Шейх отвечал: «… Я вынужден был руководить не вооруженным восстанием, а всеобщим протестом…» Далее писал: «…Несмотря на наши протесты, вы предлагаете мне добровольно явиться. Вследствие этого я прошу удовлетворить следующие наши просьбы: не затрагивать основы нашей религии; отказаться от обобществления личного имущества и скота граждан; решить вопрос избирательных прав, установить всеобщее избирательное право; отказаться от массовых арестов и освободить невинно заключенных...»
Письмо завершалось словами: «В зависимости от результатов настоящей просьбы я готов к вам явиться». Он вышел. И был расстрелян (всего было арестовано 316 человек, 212 из них расстреляны, 104 осуждены на различные сроки от 3 до 10 лет). Требования повстанцев по всему Дагестану были такими же, и этот факт свидетельствовал только об одном — о дискредитации новой власти.
Но власть отказывалась признавать свое поражение — в 1933 г. в отчетном докладе Даг. отделения ОГПУ отмечалось, что на протяжении 1930–1933 гг. «организованному и объединенному кулацко-мулльскому и шейхо-мюридскому контреволюционному повстанческому подполью было нанесено ряд оперативных ударов», в результате которого были ликвидированы «три массовых бандитско-повстанческих выступления — Дидоевское, Юждаговское в 1930 г. и Ахвахское в 1931 г., ликвидировано в Чечне и Дагестане межнациональное повстанческое подполье (Дело «Цепь»), и до него в Дагестане было ликвидировано свыше 10 контрреволюционных повстанческих образований и масса группировок, в которых мусульманское духовенство, шейхи и мюриды, принимало непосредственное участие. Всего репрессировано мусульманского духовенства с начала 1930 г. по октябрь 1933 г. — 1212 человек, из них шейхов — 9 чел., шейхствующих лиц — 5, общественных кадиев — 91 чел., мулл — 405 чел., мюридов 702 чел., из них 50% старших мюридов».
В 1930 г. в Аргвани был образован колхоз, который носил имя большевика С. Орджоникидзе, устанавливавшего в регионе Советскую власть. Другие «околхозленные» гумбетовские селения носили имена героев новой власти: Косарева (с. Цилитль), Кирова (с. Сиух), Тельмана (с. Мехельта), Каянциус (с. Тлярата), Ворошилова (с. Данух), Сталина (с. Н. Инхо), Молотова (с. В. Инхо), Маркса (с. Читль), Евдокимова (с. Килятль), Когановича (с. Ичичали), Стаханова (с. Щабдух), Энгельса (с. Ингиши).
В 1936 г. в официальных документах селение Аргвани клеймят как «один из более отсталых аулов по району, где сильно влияние старых пережитков и адатов». Облик нового Аргвани, колхозного, предстающий со страниц райкомовских отчетов 1939 г. («особенно слабый участок колхозников в колхозном производстве», «актив селения слабый, малонадежный», «отношение к обобществленному имуществу нерадивое-пренебрежительное», «работа с/совета слабая», «председатель с/совета безынициативный», «правление колхоза неработоспособное», «не освободившиеся от предрассудков») был бесконечно далек от Аргвани 1839 года — героического «Аргуани», принявшего знаменитый «исполинский бой», предтечу сражения за Ахульго.
В 1939 г. был нанесен последний удар по традиционной дагестанской сельской общине, джамаату — начался процесс перевода колхозов на Сталинский устав сельхозартели (обобществление земли, рабочего скота, сельхозинвентаря, семенных фондов, кормовых ресурсов). Традиционный Аргвани, одна из сельских общин Нагорного Дагестана, складывавшаяся на протяжении многих веков (территория, управление, формы собственности, социальная структура, хозяйственно-бытовой уклад), в результате завершенных основных советско-колхозных преобразований перестал существовать.
Это была участь каждого дагестанского селения — не случайно на обложке книги после ее названия «Аргвани. Мир ушедших столетий» добавлены строки: «Дагестан в историческом портрете селения».

Историк Патимат Тахнаева представила другого Хаджи-Мурада

Выше гор — только любовь
завершились съемки сериала «Гордость» для Wink от создателей «Актрис», «Балета» и «Психа»
08.12.2025 16:31
Минэнерго предлагает 60 млн рублей за новую схему газоснабжения Дагестана
госзакупки
08.12.2025 01:05
